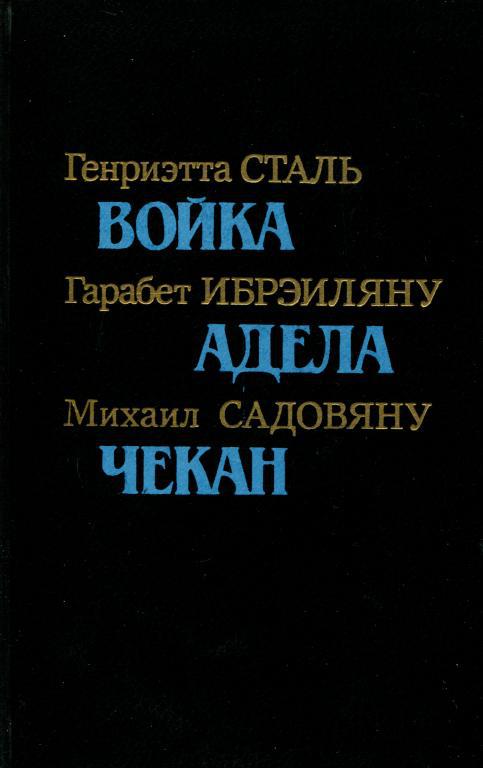того, что родился, пока он был в Молдове.
— Какой сын, Мария?
— Да откуда мне знать, барышня? Так она сказала.
— Кто, Войка?
— Да.
— А кто мать ребенка? Не Войка?
— Да нет, конечно! Цыганка! Он в войну родился.
— Цыганка? А где же ребенок?
— У матери. Цыганка-то говорит, что выбросит мальчишку, а дядю Думитру опозорит на всю округу да и Войку сглазит и в гроб вгонит. Не дай бог водиться с цыганами.
Теперь я начинала понимать причину Войкиных слез.
— А Войка-бедняга что говорит?
— Да она, кажется, просит дядю Думитру отдать ей те два погона земли, что возле огорода, а он не хочет.
— Вот оно что! Ну, а если он даст землю, Войка согласится взять ребенка?
— Да.
Я расхохоталась.
— Значит, если Думитру даст землю, то сможет взять сына, так что ли?
— Конечно.
— А он не дает?
— Нет.
Мне казалось, что я мучительно пытаюсь разгадать нелепую загадку, смысл которой не проясняется, как ни старайся.
Легкий стук в дверь, тихо входит Войка, затворяет за собой дверь и, улыбаясь, останавливается посреди комнаты.
— Что, Войка?
— Да ничего. Вот к вам пришла, барышня.
Сначала я подумала, что ей чего-то от меня нужно, но ее безмятежность удивила меня. Она, как и Думитру, выглядела такой спокойной! И все же было в этом спокойствии что-то, что говорило: они подстерегают друг друга, и вот-вот вспыхнет ссора.
Сидя рядом со мной, Войка грызла сухари. Потом вдруг сказала:
— Эта проклятая Флоаря опять у меня двух молодых курочек унесла: вот я ей покажу… будет меня помнить!
— Какая Флоаря?
— Да невестка. Жена Стояна.
Вмешалась Мария:
— И она то же самое говорит про тебя: будто ты у нее курицу-несушку украла!
Обвинение ничуть не тронуло Войку, она повторила, певуче растягивая слова:
— Вот задам я ей, будет меня помнить!
И тем же спокойным тоном, думая, видимо, о другом, добавила:
— Приходите в воскресенье на хору, барышня… Деревенскую одежду, что у вас есть, наденьте. То-то красавица будете! Парней смущать будете!.. А я вам свое ожерелье дам!.. Вы вечером белым порошком лицо посыпаете? Пудрой-то?
Мария с презрительной усмешкой, высокомерно глядела на Войку, которая никогда не бывала в городе, не то что она.
Я спросила:
— Войка, а где же Думитру? Верно, ждет тебя?
Войка отрицательно покачала головой. Я чувствовала, что ей хочется о чем-то поговорить, но Мария ей мешает. Она сказала:
— Я, барышня, побуду у вас, пока вы спать не ляжете! Можно?
— Конечно. Иди, Мария, Войка поможет мне.
Оставшись со мной наедине, Войка долго не знала, как ей начать свою исповедь. Руки ее беспокойно шевелились. Я спросила:
— Войка, ты успокоилась? Не плачешь больше?
— Не плачу, барышня.
— Помирилась с Думитру?
— Куда там!
Она помолчала и, вдруг решившись, торопливо зашептала:
— Ухожу я, барышня.
— Спать?
— Нет, от него ухожу, от Думитру.
— Как уходишь? Куда?
— Куда же, к матери!
— Когда?
— Этой ночью.
— А он что говорит?
— Да он не знает… Вот уйду, тогда и посмотрим, каково ему одному будет!
Я спросила без обиняков:
— А что, если он тебе даст развод? Разойдется с тобой, — пояснила я, видя ее удивленные глаза, — и приведет другую, ту, что с ребенком?
Войку ничуть не удивило, что я знаю о существовании ребенка, — видно, и Марии она сказала нарочно, чтобы я узнала. Она помолчала как бы для того, чтобы собраться с мыслями, и заговорила тихо и медленно:
— Он и не знает, что я вещи-то его припрятала, — я их с собой возьму. Он сперва скажет: «Ушла, ну и слава богу», а как увидит, что одежда-то пропала, тут же прибежит и просить станет, чтоб вернула. А я и скажу: «Не отдам, пока к закону не обратимся. Как ты мне, так и я тебе». Он домой вернется и в Бухарест к цыганке собираться станет, чтобы парня забрать и на меня в суд жалобу подать; а в пустом доме он и сам-то не разберется, а с мальчишкой и подавно…
Войка говорила не останавливаясь, и никакие чувства не отражались на ее лице, а я молча слушала. Потом я сказала:
— Да он на твое место цыганку приведет.
Войка презрительно тряхнула головой:
— Посмотрим: неужто он на это пойдет?.. Ведь это цыганка, барышня, ведь это сучка, что со всеми путается и детей своих бросает. Мало того что господь, видать, за грехи мои детей мне не дал, так еще и Думитру, только стану я ему говорить о ребенке да о бабе, с которой он спутался, гром ее порази, тут же и отвечает: нет, чтоб спасибо сказать, что я тебе сына родил, раз уж сама не в силах… Вы уж простите меня, барышня, но так он говорит…
— А отчего у тебя детей нет?
— Да откуда же мне знать? И у сестры моей нет. И ей горько приходится, да не так, как мне. Вот я и говорю: цыганку-то он не приведет, потому что знает, какая она. Поживет несколько дней один-одинешенек, некому будет еду приготовить, да и снова ко мне придет… чтоб вещи вернула; а я не отдам, даже если драться будет, — ведь здесь, дома, он дерется, хочет, чтоб я, когда мне надоест все это, сказала: ладно, вези сюда мальчишку, — и всё, чтобы землю мне не давать; а там…
— Войка, а почему ты без земли не хочешь взять ребенка?
— Без земли ни за что не возьму, — ведь умри он, не дай бог, и все, что руками моими сделано, этому ублюдку достанется, а я ни с чем останусь — таков уж закон… Так вот, там он меня не станет бить так, что уж и вытерпеть нельзя, и скажет: «Вот тебе земля, а я в дом сына приведу, да и ты… приходи».
Тут Войка заплакала, словно печальная и нелепая развязка уже совершилась.
Я молчала. «Ведь не станет он меня бить так, что и вытерпеть нельзя!»…
Войка встала с пола, вытерла глаза, попрощалась и тихо вышла из комнаты.
Солнце уже давно встало, когда я проснулась: вечером, взволнованная рассказом Войки, я заснула с трудом и очень поздно. И сейчас первая моя мысль была о ней, — неужели она ушла из дому?
Я вышла во двор. Было тепло, светло и тихо. Возле дома — ни души. Время близилось к обеду. Куры с раскрытым от жажды клювом сбежались ко мне. Свиньи, уныло лежавшие в грязи у свинарника, поднялись с громким хрюканьем. В посудине, из которой они обычно пили, на самом дне